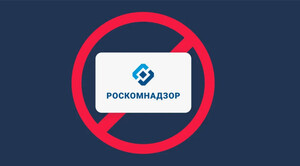Мерзость. Часть III
Неблагодарен человек неразвивающийся. Ой, неблагодарен! А человека, сознательно нарушающего законы эволюции, после отработки двух-трёх шахтных горизонтов, можно смело назвать – человек скатывающийся, т. е. почти докатившийся до ступеньки, с которой прачеловек начинал своё славное восхождение, обогнав многочисленных своих братьев и сестер (если… оглядываться на Дарвина).

Фото: Крах (ш-та им. Н. А. Изотова, п/о "Артёмуголь", когда-то лучшее угольное предприятие ЦРД; дата снимка: 28.04.2013)
Аркадия, наконец, соединили с директором:
- Пётр Петрович, пора пресечь махновщину этих братьев-камикадзе, подающих дурной пример всей шахте! Их необходимо наказать! обязательно наказать! неизбежно наказать! самым строжайшим образом, чтобы и другим было неповадно. Следует им, и в первую очередь, – старшему, доказать… И я этим делом лично займусь – я им докажу, что их упрямую настойчивость в претворении в жизнь своих авантюрных замыслов можно пресечь. И пресечь самым жёстким образом! Ах, как-то всё у них получается всегда чересчур просто и безответственно; что хотят – то и делают. Один снизу грубо нарушил ТБ, другой – сверху – захотел и чуть ли не пять полосок в одном уступе срубал. Форменное безобразие…
Во всём виновен старший брат с мыслями о своей гениальности и вечной молодости. Вечно что-то выдумывает. Разве возможно человеку победить старость? Так не бывает! Ведь это естественный процесс, и никогда еще нигде на Земле время не текло вспять. Просто нужно смириться и стареть красиво. И незачем требовать от жизни того, чего она не может безвозмездно дать. И Молодой пошёл по этой проторенной дорожке, заразившись этими крамольными идеями… Я мог бы даже больше сказать: алчность – ошибка всей их жизни. Мы все в жизни делаем немало ошибок, но эта – самая главная… А сейчас я попробую подвести черту под их трудовой деятельностью – нужно ли всё это нашей Родине? То, что они творят – это, не так называемый нравственный подвиг, это – скрытая драма…
Пётр Петрович, вы, пожалуйста, подскажите главному инженеру, а то я пока выеду, пока помоюсь – пусть обязательно их начальнику «поставит на вид» в отношении братьев. Пора принимать меры в назидание остальным…
Виктор был удивлён и потрясён, услышав доносившийся разговор, изобилующий просьбами о наказании своих кормильцев:
- Как можно так легко взять и отречься? Что это – душевная глухота? Ведь всего неделю тому назад пили чай, мило беседовали о живописи итальянским карандашом (одно из его увлечений – авт.), и играли в шахматы: счёт 2:2, при одной ничьей. Расставались очень тепло, с улыбками, обмениваясь любезностями. А сегодня – кощунство и глумление из тех же уст, покоробило и накрыло мой слух черным покрывалом.
Не всё правильно я делал в жизни, и даже есть чего стесняться, но в душе так стыдиться из-за своего улыбчивого друга, как сегодня, мне ещё не доводилось.
Я прекрасно понимаю, что в каждом из нас сидит раб тела, или раб души, которые ненавистны нам. Мы же вопреки здравому смыслу, подкармливаем их либо тайно, либо явно, но тогда с завидным постоянством, преуспевая в ложных и иных желаниях, неумолимо превращаясь в объект ненависти или зависти в глазах тех, кто рядом с нами…
Раздался сигнал «стоп» – пришла клеть. Виктор вздохнул, встал со скамейки и смешался с толпой горноспасателей…
* * *
В это время, в верхней части лавы, случилось редкое явление (и не только для нашего участка) прибыл гость – знакомый «мухомор» лез по нашей лаве напролаз (сверху – вниз). Мне это сразу показалось странным, тем более «мальчик», который заходил на наряд, должен дежурить всю смену на нижнем штреке, пока не вылезут из лавы все забойщики.
Я поздоровался с ним, он – со мной, но от меня не ускользнула нотка непонятной необычной озабоченности в его голосе.
- И что же такое в мире перевернулось, что могло тебя заставить в конце смены пролезть по нашей лаве?
- Приказы не обсуждаются.
- Вон даже как? Похвально.
- Тебе, Николай, долго ещё?
- Пять «коней» крепить.
- А всего, сколько срубал, и какая растяжка была на начало смены?
Я ответил…
Вэтэбэшник покачал головой:
- Ты с ума сошёл15!
Я, сняв респиратор, слегка рассмеялся. Для меня такие слова были выше любых похвал.
- В нижнем от меня уступе – вербованный полудурок, ты ему скажи: пусть лезет, я больше сорить не буду.
И только я это произнёс, как внизу показался свет и раздался неестественный, дикий крик, или что-то похожее на вопли одичавшего человека:
- Не-е сори-и-и!!!
- Ну, разве я неправду сказал? Лишний раз подтверждается – я никогда не лгу! Неужели нормальный человек будет так кричать? - и уже умиротворённо добавил, обращаясь к подлезшему забойщику: - Давай, шевели своей лимонадкой… боярыня Морозова (изменено автором).
Через двадцать пять минут я подошел к накопителю на стволе. Заходить в него не стал, намереваясь проскочить в клеть с другой стороны – была у меня такая «жилка». Прислушавшись к возбужденно разговаривающим шахтёрам, склонявшим мою фамилию, я вспомнил лицо и голос «мухомора», с которым разговаривал полчаса назад.
- Выходит, он всё знал, но… Не может быть. Не верю, что-то здесь не так. Правда, в лаве было жарковато сегодня.
Подошла клеть. Я пошёл через запретную сторону. Стволовой глянул на меня, и ничего не сказав, отвернулся (что уже само по себе выглядело довольно странно).
- Значит, правда!
В клети, сзади меня, чей-то знакомый голос с хрипотцой, неразборчиво бормотал о нас, Гриневых, и о нашем участке. Потом я услышал краем уха: «Николай», и воцарилась тишина. Нетрудно было провести параллель между замолкнувшим разговором о трагической новости и тем фактом, что сейчас шахтёры буравят мне спину взглядами, не отваживаясь спросить у меня – как будто я знаю больше, чем они.
Я не верил в эту чудовищную нелепость. Ничего подобного просто не могло случиться, по крайней мере, сегодня. В лаве не стреляло. На насыпке, если только придавило вагоном к раме? Чушь какая-то. И всё-таки – это нелепая ошибка. Не верю. «Бугор» – шустренький, ему сорок два года, но любой молодой забойщик, кроме меня, конечно, позавидует его умению, сноровке и ловкости.
Сердце начало медленно сжиматься – кто-то невидимый медленно сдавливает его в «тисках». Итээровец, стоявший сзади через одного человека, и оказавшийся обладателем знакомой хрипотцы, протянув руку, тронул меня за плечо:
- Николай…
- Родной, не трави душу, - я еле справлялся с подступившим комком невыносимых душевных страданий. - Выедем – узнаем…
Невидимый собрался меня добить наверняка – душу рвёт мысль: «Плохая черта в нашем роду – быть бесхитростным при всей сложности современной жизни…».
В грязной бане, не раздеваясь, стрельнул сигарету, глубоко затянулся, пытаясь разжать «тиски». Потом вдогонку первой затяжке послал ещё – две, и от сигареты остался один фильтр. Подошёл к своему месту, на братовой люльке висели аккуратно, как всегда, упакованные шахтёрки.
- Идиоты!
Уроды!
Ну, кукла итээровская, башку отбить мало!..
Через полтора часа мы: я с братом, Потеха и «безликий» мирно потягивали пиво, сидя за столиком, в баре «Рица», местной достопримечательности тех времен, где царило взвинченное оживление – шахта пережила такое ЧП и осталась при «своих». Наш визит сюда, допустим, был излишен, но это, ни в коем случае, не подчеркивало нашу духовную бедность, отнюдь, нужно и народу показать, что мы – живы, живём, и будем жить, вопреки местной легенде. Каждый из вышеперечисленных шахтёров пострадал из-за этой истории: я в моральном плане, брата, правда, пожурили, остальным виновникам – по выговору без занесения (уже расписались и… забыли).
Теперь мы делились впечатлениями под «Жигулевское», шутили и потешались над произошедшим случаем, достойным первого места в несуществующей «Книге розыгрышей».
Больше всех смеялся брат, пытаясь показать, что ничего из ряда вон выходящего не случилось. Он может себе подобное позволить, потому что нам знакомо латинское изречение: «Римскому войску страх неизвестен…».
- Ну, подумаешь – просидел в орте два часа, зато прогрелся – уличная слякоть не возьмёт. Экая невидаль! Бывало и похуже…
Я же был зол на всех и вся, но старался не выплеснуть нечаянно своё душевное состояние на сидящих рядом – дабы их ненароком не «обжечь». Смотрю на них, куражащихся с напускной весёлостью – меня ведь не обманешь. Пусть – это поддельная радость, пусть – чужая, но, с другой стороны, она меня довольно-таки умиляет. Этой, своего рода, бесплодной попыткой вакцинации внутреннего «я», они пытаются отгородиться от будущих чужих ошибок и злобы, но это пустое – здесь, за столиком, им точно ничего не грозит, а на остальную жизнь, при существующей морали – просто бесполезное дело. Подняли бокалы, провозгласив тост за здравие молодого человека с ВТБ. Уже тут от знакомых мы узнали: когда у «мухомора» горноспасатели силой забирали лопату, он походил на бегуна, полузадохнувшегося на короткой дистанции, выложившегося полностью, чтобы в конце недолгого пути, за чертой финиша, безвольно свалиться в бессилии. Под аплодисменты шахтёров дурашливо кричали: «Виват «мухоморам!». Жизнь продолжается: и все мы, присутствующие в этом… зале, уверены в завтрашнем дне, как две капли похожим на день вчерашний.
Мы с братом пристально посмотрели друг другу в глаза, разрешив заглянуть на самое дно души, где каждый прочёл то, что хотел прочесть, то, что мы никогда и никому не могли сказать… порою даже самому себе.
Я смотрел на шевелюру брата, где начинала в одиночку проступать седина, и с грустью думал о том, что через восемь лет ему стукнет полтинник, и в нашей ветке Гринёвского рода, будет уже два пенсионера. Отгремит банкет по случаю, а на следующий день ты, как ни в чём не бывало, придёшь на первый наряд, потому, как твои дочки наплодят тебе внуков – нужно немножко им помочь. А я буду шутливо издеваться над тобой, придумывая каждый раз, что-нибудь новенькое:
- Дважды дед, дед в квадрате, дед в кубе, сегодня будем вычислять корень квадратный из деда…
Я смотрел на него и вспоминал, как в прошлом году, в один из летних дней, оставшись по какой-то причине без работы, мы утром приехали на конечную остановку (по старинке: шахта № 6-7), самую западную часть Никитовки, и пошли через балку, степь, в соседний район к родителям. Очевидно, не суждено мне вычеркнуть из памяти эти картинки – частицы моей жизни. Звучит оживший голос матери, не узнавшей нас, начавших «пастись» на грядке с клубникой, и закричавшей в форточку: «Что же вы, окаянные бугаи, делаете?!». И какова же была её неописуемая радость, когда вместо ответа она услышала наш искренний смех. Через несколько часов, мы оставили счастливых родителей. Возвращались опять пешком, но другим маршрутом, и тоже через степь. Я нарвал букетик полевых цветов: «Отдай своей жене». Сегодня не помню – во что я был одет в тот день, 25 лет тому назад, но букетик, словно сорван вчера, стоит пред глазами – своими же руками для брата.
Я продолжаю вспоминать, как четыре года тому назад, зимой, три брата помогали родителям зимой свежевать кабанчика. Виктор, уходя, категорически отказался от мяса, но попросил… хвост, объяснив, что жена их очень любит, чем вверг родителей в недоумение. Я со средним братом – поняли юмор момента, но посерьёзневшая мать таких шуток не хотела признавать: «Ты нас хочешь обидеть, или жену?». Потом мы иногда вспоминали об этой истории, получившей довольно-таки весёлое продолжение.
Смотрю на него сегодня с любовью, и не знаю, что через тридцать месяцев наши отношения зайдут в «глухой» тупик навсегда, из-за непримиримости характеров – никто не хотел уступать. Никто! Навсегда, потому, что спустя ещё ровно двадцать месяцев, во второй горловской больнице, незнакомец опытной рукой аккуратно запаяет цинковый гроб – последнее убежище моего славного Старого. И станет плохо возле морга от ожиданий и приготовлений Олегу О., молодому крепкому забойщику, после короткой команды: «Грузим и поехали!». Мгновенно отскочит он от грузовой машины с дикими возгласами: «Не могу! Хоть убейте!». Вопреки всем канонам придётся мне и здесь упираться (вместо «того парня»).
Вместе с организаторами похорон, в очередной раз что-то забывшими, приедем на шахту (благо дорога идёт мимо). Там я брезгливо, двумя пальцами сниму обложку с паспорта и выкину её…
Велико будет отвращение к рукам врача, снявшего окровавленные резиновые перчатки, для регистрации моего документа в книге убытия тела.
Пухленькие красивые пальчики, симпатичной, абсолютно спокойной женщины, никак не гармонируют с ролью «мясника» – рядом на цинковом столе (опять… цинк) лежит мужчина средних лет, громадного роста, наподобие вскрытой пустой консервной банки, с белыми, оголившимися концами обоих рядов рёбер, с застывшими мёртвыми волосами, и съежившейся до смешной несуразности былой гордостью. Очевидно, этими нежными руками – точно так же и тебя…
В этом помещении в течение нескольких минут познаётся вся мудрость философии человеческой жизни, какова она есть – без красивых слов и завуалированных фраз.
И мысли, мысли, мысли пчелиным роем в моей голове – чуждые, некрасивые, с прилипшей грязью; они осядут не на года, точнее, навсегда.
И как итог декабрьского дня, кануна Нового года, нового счастья – выпотрошенный (более точного определения не найти – авт.) образ, и величавая, в своём непоколебимом спокойствии, женщина в белом одеянии, будут с маниакальным упорством появляться предо мною при одном воспоминании о тебе.
На фоне этой, наполовину сделанной рукотворной работы, не отводя взгляда от гипнотизирующей белейшей кожи рук, листающих мой паспорт, я подумаю: «А ведь кто-то их ещё и целует?». Подумаю без тени иронии, потому что это тоже составная частица силы жизни, непонятной многим и мне, в том числе. Нет, но понять-таки я, может быть, и сумею. Перебороть же себя, признаться самому себе – в чём? В том, что я бессилен осмыслить мужество и волю обладательницы этих пальчиков с ухоженными ноготками. В шахте, будто на войне – проще, откровеннее; в этих же стенах я вижу работу набитой руки, непонятной и неприемлемой для меня. Спросить бы у неё – чем она сильна: духом, или навыком, и где она черпает силу для такого, поистине мученического пути женщины? Я смотрю на слова, перекочевывающие из моего паспорта в сухую бездушную графу «Адрес», и не могу постигнуть… Я способен во всеуслышание признаться: да – я бессилен; но, как и всякий другой человек, не смогу объяснить – зачем рождается человек? Я готов принять на веру любую теорию, если только за ней не будут стоять такие бессмысленно оборванные жизни…
Мысли, мысли, мысли… И чем же теперь можно будет меня удивить или испугать? Не хочется, чтобы звучало кощунственно, но чисто в индивидуальном порядке, т. е. для себя, я в тот день выведу формулу, работающую без остановок только в одном направлении: «Нужно не бояться, а уважать… Её Величество!».
После того, что я здесь пойму и осознаю, мне захочется выйти в соседнюю комнату и… Нет, не прикоснуться. Зачем? Я знал тебя куда более чем живым. Я склонился бы над тобой и прошептал… Но прошептал с такой силой, чтобы не только ты услышал, но и мысль инженерная содрогнулась от страха за «планируемое… но не воплощённое». И только потом – одному тебе: «Ах, если бы можно было тогда вспять время повернуть, заставить его мне послужить один хоть раз. И если – да! я смирил бы гордыню и убил в зародыше фразу: «никто не хотел уступать». Но время не жестоко – оно всего лишь не знает для смертных обратного хода.
А ты, всем нам на удивление, за три недели отрастишь бороду. Странно, но я никогда бы не подумал, что у тебя на лице может быть такая густая поросль. Да ты и сам об этом не знал…
Обложка – в урну, и «кровожадный» образ, жадно затягивающийся сигаретой над моим документом, уже не давит на мой мозг. Зато у наших женщин – шок. «Шахта», которой ты, брат, отдал, наверное, лет двадцать, забудет вовремя топливом заправить грузовик.
- Да тут всего-то – метров триста, успокойте, родственники, свои сердца – мы мигом…
И помчались очень быстро… И вернулись – так же…
На ледяных ухабах, в кузове что-то громоздкое и тяжёлое, перекатываясь, будет бить о «цинк» глухим звоном.
Ещё не все слёзы женщин выплаканы…
И отец наш, оказывается, тоже сможет пролить слезу, наблюдая пред собою чудовищ…
И я, за десять лет шахтёрских, не знавший влаги слёз, хотя порою волком выл от боли, а тут…
Отдавая дань человеческому горю, деревья – твои одногодки, взметнут к небу ветви в высшей форме гнева, пытаясь стряхнуть снег на головы людей, своих властителей, удивляясь их равнодушию и отсутствию способности мыслить.
И птицы, встревоженные невиданным кощунством, долго кружили, возмущённо оглашая воздух многоголосым галдежом, слившимся в морозной тиши, в единый звук. И достиг он величавого памятника богатырю – шахтёру, и, оттолкнувшись от его громадной спины, вернулся к зданию, и опять – назад, и опять… И уже не звук, не звон – набат наполнил эхом этот тихий край, обрушившись удесятерённой силой на вернувшуюся машину: «Вставай, очнись, шахтёр – ещё не время!».
И полетит, набирая силу, эхо дальше, от горы до горы рукотворной, на пути своём, предупреждая о новой, невиданной и неслыханной доселе, для нас, живущим в атомном веке, мерзости, идущей от людей бездушных, и иных – с глумлением и редкой настойчивостью отдающих команду «Ату его!» на мысль им не понравившуюся, но имеющую право на своё существование…
Пройдёт не так уж много времени, и ты станешь обрывком людской памяти, и только близкие родственники никогда не смогут смириться с мыслью, что тебя нет в живых. Будет больно первые дни, недели, месяцы, и тоска растянется на слишком продолжительный срок. Я буду думать – это пройдёт. Я ошибусь. Мне, переставшему шаблонно думать и жить, придётся привыкать к подкравшейся правде:
- Я – последнее звено в, почти вековой, цепи шахтёров нашего рода. И кто сменит меня, и когда? И сменит ли вообще?
А пока я, за компанию, пью нелюбимый напиток, смотрю на брата и двух случайных попутчиков моего сегодня. Из разговоров о прошедшем приключении незаметно перешли на более щекотливые беседы о судьбах человеческих. За этой многогранной тематикой не заметили, что на улице стемнело.
Стрелка часов в наших домах уже давно зашкалила – с работы не вернулся – укол в сердце, что же там случилось?
День для нас, четверых, почти прожит: сейчас разъедемся, окунёмся в быт, будем извиняться за задержку, наши рассказы обрастут ещё более фантастическими подробностями, пропорционально увеличивающими нашу собственную роль в случившемся эпизоде. Мы будем прощены и помилованы, а некоторым, после такой истории, может быть, даже разогреют обед…
* * *
На следующий день, нарушив своё правило, я пришел на шахту поздно – в надежде, что, получив наряд, забойщики уже разошлись, но, увы, меня ждали. Несмотря на мой вчерашний рывок, сегодня я опять обязан быть востребованный. В нарядной присутствовали все те же лица, плюс, улыбающийся насыпщик (настоящий).
Начальник, изумленно вскинув брови, глубокомысленно протянул:
- Коля, ты…
Я, смотря ему в глаза, бесцеремонно прервал на полуслове совершенно бестактной репликой:
- Всем привет, но сегодня я в гробу видел: и ваш участок, и вашу рубку. Поставьте выходной!
Обвёл взором присутствующих, не дожидаясь ответа, повернулся и ушёл, шокировав своим поступком тех, кому нужны были сегодня мои руки. «Почти тёзка» удивлённо взглянул на Виктора:
- На какой почве такое неожиданное заявление? Что с ним? Не похож сам на себя…
Брат недоумённо пожал плечами и, посмотрев на закрывшуюся дверь, ответил: «Не знаю. Вчера вроде всё было нормально. Не скажешь, чтобы он был нервным, или раздражительным. Возможно, происшествие на личном фронте? Ладно, поставь ему выходной, а за добыч не переживай – я срубаю».
Я стоял в «стекляшке», на выходе из АБК, и молча докуривал вторую сигарету, не обращая внимания на шахтёров, непринужденно болтающих о чём-то своём, и жадно затягивающихся сигаретным дымом перед спуском в шахту.
- В последнее время мыслить начал неправильно. Перекос произошел в моём мировосприятии? Странно, но я не знаю, что со мной творится… Я по-прежнему зол. И причина даже не в сердце, начавшем тревожно щемить. Тогда в чём дело?
Быть может, однажды проснувшись, начинает подавать признаки в ожидании своего часа то таинственное, затаившееся предчувствие надвигающейся беды, именуемое тайником души? Или из-за меняющегося состояния духа, по причине моего медленного превращения в человека думающего?
- Какая хорошая и щедрая земля у нас! Какие люди уникально-послушные! Просто диво! Надо полагать, из-за этих благородных качеств, мы и живем опутанные со всех сторон мерзостью? Окружающая действительность – мерзость, работа – мерзость, на экране телевизора – непрекращающийся поток тошнотворной мерзости… Жизнью назвать это существование – язык не поворачивается. И как бы акулы пера не пытались её отобразить: панорамно, или пофрагментно, в ярких тонах, или пастельных, но даже тени пасторали нет, увы! И насилует мерзость наше сознание днем и ночью, и нет спасения от окостеневшей за десятилетия морали. И жаль мне до бесконечности, себе подобных, живущих на Родине моей, радующихся уже только тому, что жизнь им дана в этом молодом мире искривлённых отражений…
Чья-то рука опустилась мне на плечо. Могу, не оборачиваясь, и не смотря на руку, сказать: «Это брат». Иногда, Старый может стать отдушиной для меня. В основном же он пытается направить на путь истинный, но это звучит всё реже и реже – брат мудреет с годами и понимает: переделать мой характер – равносильно, что холодный клинок перековать. Что-то вчера во мне сломалось?..
- Что случилось, брат?
Я повернулся к нему. Улыбнулся – «когда-нибудь за чашкой чая». Приветливо сжал рукой его плечо: «Glückauf 16, брат», и направился к выходу. На мгновение задержался под козырьком «стекляшки» и, решительно шагнув в серое утро, окунулся в мерзость…
02.05.2007
Примечания
15 Через три года я распрощался с этой шахтой и отправился в очередное, но уже самостоятельное «плавание» по угольной промышленности с определённым багажом знаний, заимствованных у старшего брата, который в свою очередь много почерпнул у отца. Виктор, не находя веских аргументов, сумевших объяснить бы причину вспышек физических возможностей в отдельные дни, учил меня: - Запоминай: есть дни повышенной и пониженной активности, следи за ними и отмечай для себя; когда-нибудь тебе это поможет (газета «Кочегарка», № 193, 9 октября 1985 г., «Интервью после рекорда»).
Иногда бывало: не выспавшийся, голодный, с «бодуна», но сделаешь такой объем работы, что в другой раз – в отличной форме и за две смены не вытянешь. Ну не могли мы дать объяснение этим явлениям, не поддающимся никакой логике! Хотя, с другой стороны, мы имели довольно высокий порог выносливости. И только через десять-пятнадцать лет, после описанных событий, когда на прилавки рынков хлынули новые знания, словно свора борзых – «ищите и найдете», решением этой задачи оказался… простой лунный календарь. Когда мне было под пятьдесят, я уже не пытался столь нагло насиловать Природу, а шёл с ней, моей помощницей, в ногу, во всём ей, доверяясь, и результаты оказывались ошеломляющими.
16 Название журнала немецких угольщиков (ГДР) того времени, в переводе – пожелание удачи, благополучного возвращения (у горняков), т. е. счастливо выбраться на-гора.